Определение
Библейские заветы образуют объединяющую нить Божьего спасительного действия через Священное Писание, явно начиная с Ноя и достигая исполнения в Новом Завете, утверждённом кровью Иисуса Христа.
Краткое содержание
Библейские заветы образуют объединяющую нить Божьего спасительного действия через Священное Писание. В то время как некоторые богословы утверждают, что существует три предыдущих завета (завет искупления, завет дел и завет благодати), первый явный завет в Библии заключается между Богом и Ноем после потопа. Вскоре после этого следует завет Авраама, закладывающий основу для народа Израиля и грядущего Мессии, через которого Бог благословит все народы мира. Завет Моисея продолжает отношения Бога с народом Израиля, потомками Авраама, призывая их отражать славу своего Господа окружающим народам. Завет, заключённый с царём Давидом, указывал Израилю на грядущего Мессию, Который будет безупречно править на престоле Давида вечно. Однако только после того, как Иисус пришёл как Мессия Израиля, заветы с человеком были соблюдены в совершенстве и исполнены. Иисус пришёл, чтобы утвердить новый завет, обещанный в Законе и Пророках, принеся с собой эсхатологические благословения, обещанные Божьему народу.
Заветы между Богом и людьми образуют объединяющую нить в Библии, начиная с их концептуального введения в книге Бытие и заканчивая их эсхатологическим исполнением в книге Откровение. Хотя богословы расходятся во мнениях относительно точного количества и характера таких Божьих заветов, мало кто ставит под сомнение их богословское значение в связи с искупительной историей.
Хотя термин «завет» не встречается до Бытие 6:18, Реформатское / Заветное богословие утверждает, что завету Бога с Ноем предшествуют три других завета:
— вечный завет искупления, заключённый между членами Троицы до сотворения мира,
— испытательный завет дел/творения установленный между Богом и Адамом до грехопадения
— и заключённый после грехопадения завет благодати, посредством которого Бог обещал спасти человечество от последствий греха и выполнить своё творческое предназначение.
Хотя не все реформатские богословы согласны с точной взаимосвязью между заветом благодати и заветом искупления, считается, что один или оба из них лежат в основе последующих богочеловеческих заветов в Писании, все из которых служат одной и той же всеобъемлющей цели и конечной цели.
Другие учёные, однако, не убеждены и называют божественными заветами только те, которые прямо описаны как таковые в Священном Писании. Не отрицая, что Триединый Бог планировал спасение человека до сотворения мира, или что Бог установил отношения с Адамом, включающие взаимные обязательства, или что отношения Бога с человечеством выражают единую созидательную и искупительную цель, они тщательно отличают такие идеи от концепции завета, которая предполагает дополнительные такие элементы, как принесённая и/или принятая присяга. Понимаемый в последнем смысле, первый богочеловеческий завет, таким образом, является тем, который был заключен во дни Ноя (Исаия 54:9), подтверждая приверженность Бога творению после потопа.
Завет с Ноем и всем творением
Этот всеобщий завет, объявленный до потопа (Бытие 6:18), был установлен только после того, как потоп утих (8:20-9:17). Его первое упоминание просто подчеркивает Божий план сохранить Ноя и других людей в ковчеге (6:18). Божий завет с Ноем подтверждает Его первоначальные планы, временно нарушенные судом. Приостановка естественного порядка никогда больше не помешает (8:21-22; 9:11-15) выполнению творческого мандата человечества (9:1-7; 1:26-30). Дополнительные заповеди (9:4-6) выделяют ценность человеческой жизни, в частности, ещё больше подчёркивая основное обоснование этого завета: сохранение жизни на земле без дальнейшего Божьего вмешательства. Из сферы действия этого завета, по крайней мере, вытекает, что Божья искупительная цель в конечном счёте охватит всё творение.
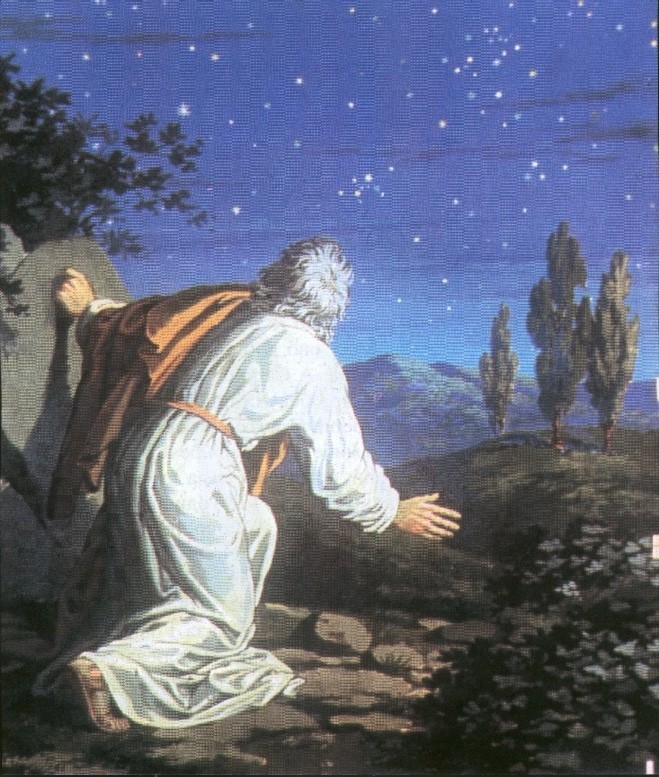
Авраамов завет (заветы)
Обетования, заключённые в Божьих заветах с Авраамом, Исааком и Иаковом, записаны в книге Бытие 12:1-3. Бог благословил бы Авраама двумя способами: (1) он стал бы великим народом и, следовательно, имел бы великое имя, и (2) через него Бог стал бы посредником благословения для всех народов на земле. Важно отметить, что каждое из этих обетований впоследствии подтверждается заветом: (1) национальное измерение Божьего обетования находится в центре внимания Бытие 15, где Бог устанавливает завет с Аврамом (15:18); (2) международное измерение обетования (игнорируемое в Бытие 15) заключается в упоминается в книге Бытие 17 (ср. 17:4-6,16), где Бог объявляет о вечном завете (17:7), так называемом завете обрезания (Деяния 7:8). В то время как многие рассматривают последнее как просто дальнейшее раскрытие завета в Бытие 15, различные обстоятельства и акценты предполагают, что на самом деле это второй этап в отношениях Бога с Авраамом.
Завет в книге Бытие 15 официально подтверждает Божье обещание превратить Авраама в великий народ (Бытие 12:2); основное внимание уделяется тому, как Бог осуществит Свою творческую цель в биологическом потомстве Авраама, впоследствии идентифицированном как сыновья Иакова (Израиль). Это, однако, было лишь предварительным этапом в разворачивающемся Божьем плане искупления. Второй этап связан с тем, как Авраам через этот великий народ, произошедший от него, будет посредником в благословении всех народов на земле (Бытие 12:3) — основной фокус Бытие 17 и 22.
Несмотря на то, что перспектива государственности не полностью отсутствует (ср. 17:8), в главе 17 подчеркивается народы, цари и вечные богочеловеческие отношения с семенем” Авраама (17:4-8,16-21). Примечательно, что особое внимание уделяется Исааку (17:21; ср. 21:12) как тому, через кого этот завет будет увековечен, подчёркивая, что было поставлено на карту в Божьем испытании в книге Бытие 22. Там послушная вера Авраама (22:16,18) соответствовала требованиям 17:1 (18:19; 26:5), таким образом, побуждая Бога подтвердить обетования Бытие 17 (ср. 22:17-18; 26:4) торжественной клятвой (Бытие 22:16; ср. 26:3).
При таком понимании между Богом и Авраамом были заключены два различных завета. Первый гарантировал Божье обещание превратить Авраама в великий народ, тогда как второе подтверждало Божье обетование благословить все народы через Авраама и его семя.
Завет Моисея
Бог установил завет Моисея сразу после того, как произошла перспектива, предсказанная в книге Бытие 15: освобождение потомков Авраама от угнетения в чужой земле (ср. 15:13-14; ср. Исход 19:4-6; 20:2). На Синае основное внимание уделяется не столько тому, что должны сделать потомки Авраама, чтобы унаследовать землю, сколько тому, как они должны вести себя на этой земле как избранный Богом народ (Исход 19:5-6). Чтобы быть Божьим драгоценным достоянием, царством священников и святым народом, Израиль должен соблюдать Божий завет, подчиняясь его требованиям (т.е. условиям, изложенным в Исходе 20-23). Придерживаясь этих и последующих обязательств по завету, данных на Синае, Израиль явно отличался бы от других народов и, таким образом, отражал бы Божью мудрость и величие для окружающих народов (Второзаконие 4:6-8).
Таким образом, потомки Авраама не только пошли бы по стопам своего предка (ср. Бытие 26:5), но и способствовали бы исполнению Божьих обетований (18:19). Таким образом, подобно Аврааму, Израиль должен «ходить пред Богом и быть непорочным» (17:1). Невыполнение этого требования подорвало бы саму причину существования Израиля, урок, который так наглядно продемонстрировал инцидент с золотым тельцом (32-34). Хотя Бог восстановил завет (34), это был акт благодати, а не справедливости (34:6-7). Более того, повторное принятие тех же обязательств по пакту в конце этого инцидента продемонстрировало, что ответственность Израиля не изменилась.
Отражая Божью святость (Левит 19:1), Израиль продемонстрировал бы истинную теократию и, таким образом, послужил бы Божьими свидетелями наблюдающему миру. Более того, поскольку человеческое восстание угрожало поставить под угрозу конечную цель Бога (то есть благословение всех народов через семя Авраама), завет Моисея также включал средства, с помощью которых можно было поддерживать богочеловеческие отношения между Яхве и Израилем: жертвоприношение, особенно в День искупления (Левит 16), ритуально искупит грех Израиля и символически выразит Божье прощение. Следовательно, точно так же, как завет Ноя гарантировал сохранение человеческой жизни на земле, так и завет Моисея гарантировал сохранение Израиля, великого народа Авраама, на земле. Это имело решающее значение для следующего этапа исполнения Божьих обетований: установления царской линии, через которую в конечном итоге произойдёт окончательное семя Авраама и наследник завета (Галатам 3:16).

Завет Давида
После Синая следующее важное событие связано с пророчеством Нафана Давиду (2 Царств 7; 1 Паралипоменон 17). Давид намеревается построить дом (то есть храм) для Бога, но Бог обещает построить дом (то есть династию) для Давида. Ни во 2 Царств 7, ни в 1 Паралипоменон 17 это обетование явно не описывается как завет, но в нескольких других текстах это делается (ср. 2 Царств 23:5; 2 Паралипоменон 7:18; 13:5; Псалтирь 88:4; Иеремия 33:21).
Завет Давида продолжает траекторию как Моисеева, так и Авраамова заветов. Божьи планы относительно Давида и Израиля явно взаимосвязаны (2 Царств 7:8-11, 23-26). Более того, значительные параллели связывают Давида с Авраамом:
• Бог обещает обоим великое имя (Бытие 12:2; 2 Царств 7:9).
• В будущем оба победят своих врагов (Бытие 22:17; 2 Царств 7:11; Псалтирь 88:24).;
• Оба имеют особые богочеловеческие отношения (Бытие 17:7-8; 2 Царств 7:24; Псалтирь 88:27).
• Особая линия семени увековечивает оба их имени (Бытие 21:12; 2 Царств 7:12-16).
• Потомки обоих должны соблюдать Божьи законы (Бытие 18:19; 2 Царств 7:14; Псалтирь 88:31-33, 131:12).
• Потомство обоих будет посредником в международном благословении (Бытие 22:18; Псалтирь 71:17).
Таким образом, завет Давида более точно определяет обещанное семя, которое будет посредником в международном благословении: он будет царственным потомком Авраама через Давида.
Поэтому этот завет вносит тонкий, но значительный сдвиг в фокус внимания. Теперь, когда великий народ, обещанный Аврааму, прочно утвердился (2 Царств 7:1), внимание привлекает его царственное потомство (ср. Бытие 17:6, 16). Эта царская линия, уже чётко прослеженная в книге Бытие (ср. 35:11; 49:10; см. также Бытие 38 и Руфь 4:18-22), достигает кульминации в индивидуальном, победоносном семени, которое выполняет обещание из книги Бытие 22:18 и надежду, выраженную в псалме 71:17.
Новый Завет
Постоянное нежелание жить в соответствии с требованиями Божьего завета привело к неизбежной катастрофе как для нации, так и для её монархии, кульминацией которой стал суд: разрушенный храм и вавилонское изгнание. Это могло бы означать конец, если бы Божьи планы в отношении Израиля не имели решающего значения для выполнения Его заветных обетований. Изгнание нации и упадок монархии должны были каким-то образом быть преодолены, чтобы Божья цель была достигнута. Таким образом, история Завета продолжалась в перспективе «нового завета» — такого, который был бы одновременно непрерывным и прерывистым по сравнению с прошлым.
Хотя в Ветхом Завете «новый завет» упоминается явно только один раз (Иеремия 31:31), несколько отрывков, как у Иеремии, так и в других местах, ссылаются на него. В книге пророка Исаии этот вечный завет мира тесно связан с фигурой Слуги (Исаия 42:6; 49:8; 54:10; 55:3; 61:8). Она инклюзивна — включает в себя даже иностранцев и евнухов (56:3), но также и эксклюзивна — ограничивается теми, кто твёрдо придерживается своих обязательств (56:5-6; ср. 56:1-2).
Хотя Иеремия и Иезекииль используют разные термины для описания этого, оба предвидят фундаментальные изменения, происходящие в общине завета: Иеремия говорит об усвоении Торы (Иеремия 31:33), тогда как Иезекииль говорит о духовной хирургии и радикальной трансформации (Иезекииль 36:26-27). Для обоих пророков это внутреннее обновление привело бы к идеальным богочеловеческим отношениям, которые этот и более ранние заветы выражают в терминах формулы завета: «Я буду их Богом, а они будут Моим народом». В этом новом завете все надежды и ожидания предыдущих заветов достигают своего кульминационного исполнения и эсхатологического выражения.
Поэтому неудивительно, что Новый Завет (завет) провозглашает:
— все Божьи заветные обетования осуществляются в Иисусе и через Него (ср. Луки 1:54-55, 69-75; 2 Коринфянам 1:20),
— долгожданный Мессия Давида (Матфея 1:17-18; 2:4-6; 16:16; 21:9;
— Луки 2:11; Иоанна 7:42; Деяния 2:22-36).
Как окончательное семя Авраама (Матфея 1:1; Галатам 3:16) и царственное потомство Давида (Матфея. 1:1; Луки 1:27, 32-33; 2:4; Римлянам 1:3; 2 Тимофею 2:8; Откровение 5:5; 22:16), Иисус также выполняет роль Слуги (Деяния 3:18; 4:27-28; 8:32-35)— не только в искуплении Израиля (Луки 2:38; Деяния 3:25-26; Евреям 9:12,15), но и посредством передачи Божьего благословения международному сообществу веры (Деяния 10:1-11:18; 15:1-29; Римлянам 1:2-6; 3:22-24; 4:16-18; 15:8-12; Галатам 3:7-14, 29).
Согласно Евангелиям и посланиям Нового Завета, новый завет был утвержден смертью Иисуса на кресте (ср. Матфея 26:28; Марка 14:24; Луки 22:20; 1 Коринфянам 11:25). В инаугурационной Вечере Господней Иисус ссылается как на прощение, связанное Иеремией с новым заветом (Матфея 26:28; ср. Иеремия 31:34), так и на кровь, связанную с установлением ветхого (то есть Моисеева) завета (Луки 22:20; ср. Исход 24:7). Соответственно, Новый Завет подчеркивает прощение грехов, что в полной мере достижимо только в рамках нового завета (Деяния 13:39; ср. Евреям 10:4), как основное благо от смерти Иисуса (например Луки 1:77; 24:46-47; Деяния 2:38; 10:43; 13:38; 26:18; Римлянам 3:24-25; Ефесянам 1:7; Колоссянам 1:14; Евреям 9:12, 28; 1 Иоанна 1:7; Откровение 1:5; 7:14; 12:10-11).
Таким образом, согласно как Павлу, так и автору Послания к Евреям, новый завет намного превосходит ветхий (то есть завет Моисея). Это уже подразумевается в употреблении прилагательного «новый» в 1 Коринфянам 11:25 (ср. Луки 22:20), что ясно указывает на контраст в книге Иеремии (31:31-32). Однако Павел ещё более резко высказывается во 2 Коринфянам 3:1-18, где он явно противопоставляет новый и ветхий заветы, подчеркивая огромную ущербность старого по сравнению с превосходящей славой и постоянством нового. Аналогичное сравнение также приводится в его образном противопоставлении Агари и Сарры (Галатам 4:21-31).
Аналогичные выводы делает и автор Послания к Евреям. Отметив превосходство нового завета в 7:22, автор развивает свою точку зрения в расширенном комментарии к Иеремии 31:31-34, который формирует литературную основу для большей части аргументации в Послании к Евреям 8-10 (ср.. 8:9-12; 10:16-17). Иисус не только осуществляет постоянное, совершенное и небесное священство (7:23-8:6), но и завет, посредником которого Он является, «основан на лучших обетованиях» (8:6), объяснённых в терминах «вечное искупление» (9:12) и «вечное наследие» (9:15), обеспеченный кровью Христа (9:11-10:18), позже описанный как «кровь вечного завета» (13:20). Поэтому, как и у Павла, контраст заключается не между чем-то плохим и чем-то хорошим, а между чем-то хорошим (но временным) и чем-то лучшим (потому что вечным).
Хотя эти новозаветные реалии во многих отношениях уже присутствуют (ср. Евреям 9:11), тем не менее верно, что лучшее ещё впереди. Точно так же, как надежды Израиля на восстановление не были исчерпаны репатриацией после вавилонского изгнания, они не были полностью реализованы и при первом пришествии их Мессии. В то время как в Иисусе — обетованное семя Авраама (Галатам 3:16), ожидаемый «пророк, подобный Моисею» (Матфея 17:5; ср. Второзаконие 18:15), старший сын царя Давида (Матфея 22:41-46) и посредник нового завета (Евреям 8:6) — Божьи обетования завета как для Израиля, так и для народов осуществились, окончательное выражение Божьей созидательной и искупительной цели ожидает исполнения в эсхатологической реальности нового творения. Только тогда надежда, выраженная в формуле завета, будет испытана наиболее полно (Откровение 21:3), ибо «престол Бога и Агнца будет в городе, и рабы Его будут служить Ему, и они будут царствовать во веки веков» (Откровение 22:3-5).
Пол Р. Уильямсон



